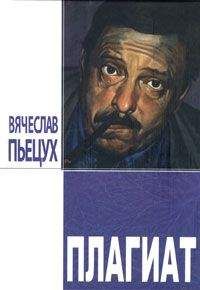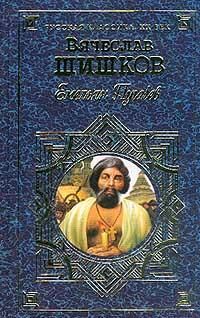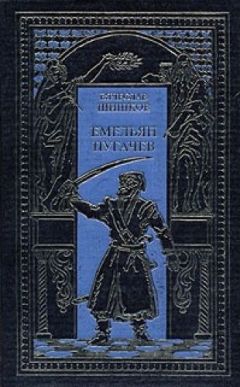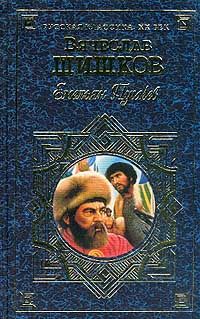Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]
— Не расчесывай расчесы-то, черт… — сказал он сквозь стиснутые зубы жене и захлопнул дверь. — Застегнулась?! Все ли застегнула-то? — Голос его был сиплый, глаза страшные, готовые на все. — Ну, спасибо тебе, Пелагея.
Та, обхватив закутанную тряпьем, стоявшую у печки квашню, выла в голос:
— И ничегошеньки промежду нас не было. Кого хошь спроси… Да хоть измолоти его всего — не жаль… Ох ты, моя головушка!
Модест порылся в своей походной сумке, развернул сверток; полыхнуло ярко-красным.
— Вот тебе подарок привез. Кашемир… На платье… Вот тебе тафта.
Он с размаху грохнул сверток о пол и, покрякивая, изрубил топором на мелкие куски.
— На тебе подарок! На! На! На!
Из-за двери слышалось:
— Модест Петров! Я околел. Выбрось хоть штаны да венгерку. Мороз ведь.
— Просвежись!
Потом открючил дверь, вышвырнул одежду, крикнул:
— Уходи, Гаврилка, покуда цел! Да и часовому своему скажи. Сочтемся.
Погасил огарок и бросился, не раздеваясь, на кровать.
Утром ударило в глаза Модесту солнце. Услыхал громкий говор под окном и прерывистые выкрики Палаши.
«Должно быть, заберут. Воблин пожаловался», — быстро сообразил Модест.
В окно четко долетело:
— Чего ты с ним маешься-то? Наплюй ему в шары, да и уйди.
Модест вздрогнул. Решительный, страшный, он вышел на улицу, чуть ссутулясь.
Стояла куча крестьян. Против них, прислонившись к стене, плакала Палаша.
— Вы что, ребята? — спросил Модест. — С обидой али с хорошими вестями?
— А вот, значит, приговор, — паскудно улыбаясь желтой бородой и блестевшими под солнышком зубами, сказал десятский. — Значит, вообче, как с нечистиками и все такое, окромя того огненный змей… Ну, в таком разе мир не согласен, чтобы, значит… И убирайся на все четыре стороны, куда жалаишь.
Модест спокойно выслушал, закурил трубку, почесал за ухом, спросил:
— Вы, ребята, верите, что я колдун?
— Известно. А то как?
— Да, я колдун!.. Ежели хотите, можете пощупать хвост. Ночью у меня рога вырастают, а из ноздрей — огонь.
Модест говорил всерьез. Мужики стояли разинув рты, с опаской смотрели на него.
— Ничего, выживайте, гоните меня в три шеи… Ну, только что… — Модест сурово погрозил пальцем, повернулся и ушел в лес.
Перепуганные мужики тихомолком побрели домой.
VIIIОпять стали видеть старушонки огненного змея, да еще будто бы какая-то «оборотка», под видом огромнейшей свиньищи, шлялась ночью из села на гору, в гости к кузнецу.
И снова стали над Модестом изгаляться, все старались как можно больней лягнуть, уязвить его, обидеть.
— Ну, что, Модест, поди скоро на пасеку-то летать будешь?
— Поди теперича тебя нечистики-то вздымут.
— Ты бы свою бабу подковал: смотри, паря, как бы она наперед тебя не упорхнула. Хе-хе.
Модест яро сверкал в ответ глазами и плевался. А иной раз пускал с плеча:
— Дураки! Остолопы! Что вам от меня надо?
Тропа к его кузнице густо поросла травой: он окончательно забросил работу на односельчан. Разве страшна ему черная корка с ключевой водой, если впереди почесть и богатство?
— Я знаю, чем это пахнет.
Палаша ходила надувши губы, укоряла, плакала, ругалась. Но Модест был слеп, глух и нем как рыба. Жена, скамейка, ель в лесу, криволапая сучонка Шавка — все одно. Мечта цепко обвилась вокруг его души, как дикий хмель возле рябины, приподняла его над житейскими делами, насытила мозг огнем, сердце — горячей кровью, глаза — безумием.
— Добьюсь!
День и ночь работал он в амбаре, иногда гасил фонарь, вылезал на волю и, взъерошенный, бесцельно шагал, словно лунатик, не зная сам куда.
Только один человек верил в летягу крепко — бродяга Рукосуй. Он двадцать лет на поселенье прожил и родину лишь во сне видал, а как хотелось: глазком бы, на короткую минуту! Вдруг как-то потянуло, сразу — ну легче в гроб! А тут как раз Модест. Эге! Пусть изобретает.
Рукосуй жил в заброшенной бане, на краю села.
Однажды ночью, лениво развалясь на полу, бродяга трескал водку. Баня была «по-черному»; сажа, копоть покрывали пол, потолок и стены. Курился огонек на камельке, плавал сизый дым, дверь — настежь, звезды видно. Бродяга чернее трубочиста, пьян. Он то хохочет, как пугач в лесу, то вдруг уставится глазами в мрачный угол, куда еле проникает свет от камелька, и бубнит серьезным голосом:
— Ежели ты лопата, стой в углу. Ежели не лопата— пей!
И тянет заунывно, бессмысленно:
В небе облаки, быдто яблоки,
Уж вы, яблоки, быдто облаки…
У лопаты морда белая, широкая, блином. Облизнулась лопата, разинула хайло. Бродяга плеснул в хайло вином:
— Пей!
Лопата прорычала: Фррр! — и опять распахнула ртище. Рукосуй сам выпьет и лопату угостит. Говорит лопате:
— Ты хоть и ведьма, а дура… Я молодец. Улечу я. Вот те крест святой. Мериканца обману, укланяю, умаслю. Потому — дурошлеп он. И бабу от него сведу, как цыган коня. Ей-ей…
А Модест стоял невидимкой рядом, привалившись плечом к косяку открытой двери, и рассеянно смотрел на сутулую спину пьяницы. Как попал сюда — не знает, ноги принесли. Шел, шел — глядит: в стороне огонек играет, взял свернул. Вот стоит. Где стоит? Ничего не слышит, ничего не видит. Вот пойдет.
— Мне бы только взобраться на летягу-то да ножки свесить, — бубнит бродяга, — взмахнул крылышками — прощай, Сибирь… Хах ты, будь ты проклят!.. Прямо на Волгу-матку. Вот те хрест. Башку разобью об коренья, улечу… Пей, окаянная твоя сила, разевай пошире пасть-то!
Лопата облизнулась, сплюнула.
— Чего? Пей знай… Воблин еще водки припрет. Воблин молодец, будь он проклят! Милуются как-то с кузнечихой вот об этом самом месте, Воблин и говорит мне: «Ты, грит, молчок, старичок…» А мне что, мне наплевать, будь он проклят… И кузнечиха тоже… Убегу, грит… Ты чуешь? Эй, лопата!
Модест встряхнулся, вздрогнул, будто сонного ударили по голове, и впился железными пальцами в косяк.
— А я ей, это кузнечихе-то, Палашке-то… Беги! Ежели Мериканец твой колдун, — беги, мол. Ты к Воблину, я на Волгу, прямым трахтом, порх-порх!..
Модест рванулся было в дверь, хотел схватить бродягу за ноги и торнуть косматой башкой в огонь. Но какая-то сила круто повернула его прочь.
— Эй, кто тут? — вскричал бродяга.
Кузнец шел молча, ноги вихлялись и ныли, словно тысячу пудов несли, из груди с хрипом вылетало дыханье.
«Так, так, так… Понимаю…» И высоко вскинутым кулаком он грозил проглоченной мраком бане:
— Сводничать?! Вот узнаешь, какой я есть колдун!
IXРаннее утро было ядреное. Травы крылись серебряной росой.
Прибежал в кузницу, запыхавшись, Рукосуй, слова вымолвить не может, только белками ворочает, на толстых оттопыренных губах слюна кипит.
— Модест!.. — начал бродяга хрипло и хлюпнулся горшком возле горна. — Модест, а ведь это ты летал ночью в поскотине-то! А? Вот те Христос, ты! — В глазах и во всей фигуре его было мучительное ожидание.
Модест поднял молот и медлил ударить по железу. Он смотрел на бродягу пристально, настороженно.
«Разве тяпнуть его, паскуду, по башке?..»
У бродяги сквозь сажу проступили на щеках красные пятна, а лоб и нос покрылись испариной.
— Я всю дорогу вмах бежал… Ух, батюшки! Ну, скажи, ради Христа, — ты?
— Я, — сказал кузнец и опустил молот.
— Ей-бог?! — Бродяга вскочил, подбоченился, встал против Мериканца, а глаза его от радости плясали. — Ты?!
— Пошел ты к праху! Не веришь, что ли? Какая причина врать?
— Верю!.. Сударик мой, верю!! Хы-хы-хы… Язви тя в пятку… Ну и порхал… А я-то кричу: Модест, Модест!.. Да и подумал: высоко, будь он проклят, где услыхать… Хы-хы-хы… Ну, прощавай, Модест Петрович! Гуляй ко мне, угощу. Грибишки есть, рыбешка. — Бродяга пошел вон, но в дверях задержался. — А не обманываешь? — Он скосил глаза к переносице и потряс поповской гривой, словно паралитик. — Обманешь, не спущу!
Кузнец шумно дышал и с надсадой грохал молотом, косясь на Рукосуя. Тот вдруг ухмыльнулся, поскреб под широкой бородой и подхалимно сказал:
— А ты бы полетал, слышь, на народе… Ярманка скоро вот. Пущай мир подивовался бы… А? Будешь, Мериканец?
— Буду! — сжал кузнец кулак и, стиснув зубы, шагнул к бродяге: — Вон!!
— Иду, иду… Прощавай скорей.
Бродяга весело пошел в село, шлепая опорками по пяткам.
Встречному и поперечному кричал не своим голосом, размахивая руками:
— Полетит, будь он проклят!.. При всем народе… На площади… Об ярманке.
— Кто?
— Кто! Балда паршивая… Как это — кто?.. Сам Мериканец.
Его слова гасили хохотом. Бродяга свирепел. Срывал с лохматой, беспросыпной башки сшитую из тряпок скуфейку, грохал ею оземь, брызгался слюной, лез драться: